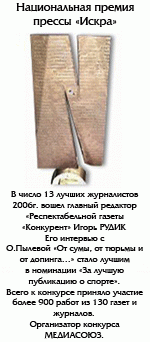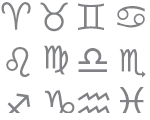начало на 1 стр. – Если в интернете ввести в поисковик «Владимир Мукусев», появится ваша фраза «Уже пятнадцать лет я запрещён в Москве как журналист».
– Девятнадцатый пошел, как меня нет на центральных каналах.
– А что за запрет такой?
– Вы же понимаете, что мы живем в де-мо-кра-ти-че-ской стране. Поэтому кто, где и как это ввёл – покрыто мраком. Но если вдруг какой-нибудь журналист, вспомнив мою фамилию, приходит ко мне и берёт интервью, либо снимает передачу, как например, сделала это Людмила Нарусова недавно, тут же появляются проблемы. Людмила Борисовна сделала со мной большое интервью для своей передачи «Игры разума» на канале «Культура». Передачу сняли с эфира, сказав: « Мукусева на канале «Культура» не будет никогда. Вам всё ясно, госпожа Нарусова? Тогда идите». И она пошла. А Людмила Борисовна Нарусова, между прочим, не последний человек в государстве. И не только вдова блистательного политика 80-х, реального претендента на пост президента России, но и сама действующий сенатор. Она могла бы спросить у руководства РТР, знают ли они о том, что в Российской Федерации цензура запрещена Конституцией. Член Совета Федерации Людмила Нарусова этого не сделала. Подобные истории, а их десятки, происходят уже почти двадцать лет. Людей рангом ниже, чем Нарусова, даже увольняли с работы только за использование моих материалов, моего имени в своих программах.
– К чему такие строгости? Вы несёте угрозу человечеству?
– Да нет, конечно. Человечество здесь ни при чём. А вот российская власть независимую журналистику боится смертельно ещё со времён «Взгляда». А мои проблемы начались с того, что я выиграл у президента Ельцина дело в Конституционном суде и заставил его самого и его гайдаровское правительство признать: деньги, исчезнувшие со счетов вкладчиков сбербанка в 92-м, не что иное, как государственный долг, который должен быть признан государством и этим государством отдан. А то ведь в то время некие политики, журналисты и даже правозащитники договорились до того, что пропавшие деньги – это чуть ли не плата наших стариков, то есть наших родителей, за шестидесятилетнюю поддержку коммунистического режима. Что за бред! Это были честно заработанные деньги, данные государству в долг. Экономическую часть иска мне помогли написать прекрасные профессионалы Лариса Пияшева, Николай Шмелёв и Николай Петраков. Они научно доказали, что выплата компенсаций обязательна и совершенно не ведёт к гиперинфляции, если продуманна и осуществляется постепенно. Помощник президента Лев Суханов рассказывал мне, что когда на заседании правительства Ельцину сообщили, что Мукусев выиграл суд, он потребовал документы со списками кадрового резерва и чиркал по какой-то бумаге, пока не прорвал её, пока не сломал ручку и пока не процарапал канаву на полировке своего стола. Потом отшвырнул и ручку, и папку с документам в сторону. С тех пор и он сам, и его преемники, и вообще официальная власть вычеркнули меня не только из какого-то не известного мне списка, но, в принципе, и из профессиональной жизни.
И ещё была история с выплатой денежной компенсации тем, кто был угнан в Германию и работал там подневольно в годы Великой Отечественной войны. Это тоже, так сказать, продолжение «взглядовской» истории. Мне удалось вместе с немецкими друзьями, журналистами и депутатами сперва предложить, а потом и провести через Бундестаг закон об этих выплатах. Но когда власти страны узнали об этом, вместо того, чтобы обрадоваться, господин Ельцин увидел в этом опять лишь происки депутата Мукусева, который влез не в своё дело.
В Югославии мне удалось уже не как журналисту, а как председателю специальной парламентской комиссии выйти на след преступников, организовавших убийство моих друзей-журналистов – собственных корреспондентов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного. И когда я познакомил с результатами расследования руководство страны, тогдашний помощник Ельцина по национальной безопасности Батурин сказал: «Ты доказал, что их убили сербы. Вот если бы их убили хорваты, тогда бы мы это дело раскрутили». И дело было похоронено. И семьи убитых журналистов не только не знают, где могилы их отцов и мужей, но даже не получили элементарной компенсации. Это был 93-й год, октябрь, и проблемы были не только у меня, но и у власти в целом. Ельцин решил эти проблемы просто, по-большевистски, расстреляв парламент. Только решил ли… А если учесть ещё и то, что я расследовал убийство Листьева и у меня есть своя версия… Всё это не способствовало моей дружбе с властью.
Но есть и радостные воспоминания. Ведь всё-таки мне удалось здесь, в Сибири и на Дальнем Востоке, стоять у истоков создания более двух десятков телекомпаний, большинство из которых живы и сегодня и, на мой взгляд, являются настоящим российским телевидением, в отличие от московского, которое и к России, и к телевидению имеет весьма отдалённое отношение.
– Вы говорите, что знаете, кто убил Влада Листьева. Я спрошу так: убийца жив и здоров сейчас?
– Влад для меня не просто коллега. Когда-то ещё студентом факультета журналистики он писал мне письма в Останкино. И даже диплом свой писал по моим передачам. Он очень хотел работать со мной, работать вместе. Его мечта осуществилась в 87-м. Мы стали делать одну передачу, сегодня известную как «Взгляд». У нас были непростые отношения, но его убийство, безусловно, заставило меня заниматься его расследованием. И то, что я слышал от моих друзей Артёма Боровика и Юры Щекочихина, то, что было основной версией у двух следователей Генпрокуратуры, которые вели дело Влада, мои собственные выводы – всё это, в принципе, даёт мне право сказать: я знаю, кто убил Влада Листьева. Но я бы был плохим журналистом и никаким преподавателем журналистики, если не был бы точен в определениях. Никто не может быть назван преступником без приговора суда, вступившего в законную силу. Так гласит закон. С этого я начинаю чтение курса «Журналистское расследование». А теперь из области предположений. Если моя версия верна и если она подтвердится в суде, то страна с удивлением узнает, что организаторы убийства Листьева не просто живы и здоровы, что они благоденствуют, процветают и даже обласканы властью.
– В вас очень хорошо проглядывается такой естественный антисоветский, антисовковый подход. Он примерно как формировался – от ощущения той красочной лжи, когда все мы стояли на пионерско-комсомольских сборах и рапортовали?
– Я тогда стоял и рапортовал вполне искренне. И не то чтобы в святое, а просто верил, что другого не будет. А значит, надо вписываться в реальность. Я вписывался даже тогда, когда из Ленинграда переехал в Москву, стал работать журналистом Центрального телевидения. А вот когда я впервые оказался на БАМе и увидел, как действительно живут люди в той же Якутии, в каких условиях работают строители «стройки века», где живут и что смотрят по своим не цветным, а чёрно-белым телевизионным ящикам, у меня впервые зародились сомнения в надобности того, чем я занимался. А потом были Колыма и Чукотка, Прибалтика и Кавказ, Украина и Средняя Азия. Страна, одним словом. И всё то, о чём я только догадывался, превратилось в конкретные истории конкретных людей и в понимание конкретной человеческой беды. И масштабы этой беды стали мне ясны задолго до перестройки. И я, как и многие в стране, стал жить двойной жизнью. Одна жизнь – с товарищами по работе и друзьями на кухнях, и другая – на телевизионном экране, которую сам же и «творил».
– И как вы при этом себя чувствовали?
– Мне повезло. Я работал тогда в лучшей на Центральном телевидении редакции. В Главной редакции программ для молодёжи. На то, что мы делали, большое руководство смотрело чуть-чуть менее строго, чем на то, что делали другие. И то, что было совершенно невозможно в программе «Время», в редакции пропаганды и даже в спортивной редакции у нас, в Молодёжке, делалось и благодаря нашему руководству даже иногда выходило в эфир. И для меня это была не только школа журналистики, это была, извините за пафос, школа жизни, тем более что по первому своему образованию я инженер и работа в Молодёжке была моими университетами во всех смыслах. Вот откуда всё это «антисовковое». Вовсе не по разрешению Горбачёва или другого начальства. И не результат смены идеологической направленности «политики партии и правительства». Это бесконечный и мучительный поиск ответов на проклятый вопрос – почему мы так живём? Я и сегодня не знаю точный ответ, но всё-таки моим студентам найти его легче, чем мне. Правда, если ты этого хочешь по-настоящему. А для этого надо думать. Много думать, знать и анализировать. Чему я, собственно их и учу.
– Интересно ваше нынешнее восприятие КПСС. Вряд ли оно является однозначным.
– КПСС состояла как бы из двух частей – номенклатурного меньшинства и основной массы рядовых членов. Жулья и нравственных уродов хватало и там, и там. И всё-таки сгнила у компартии – голова. Закрытые распределители дефицитных товаров и продуктов, квартиры, машины, дачи, больницы, курорты, и всё это – спец… И всё это на фоне тотального дефицита всего и вся. И в то же время вспомните, как проходили собрания по приёму в члены партии простых людей. Если не помните – спросите у родителей. Я всё это проходил сам. Мне, чтобы по-
ехать в Афганистан, нужно было вступить в партию. Не пускали тогда в загранку, даже на войну журналистов не коммунистов. Так вот, это была серьёзнейшая история, потому что те люди, с которыми ты не только работал, но и отдыхал, пил портвейн, решал какие-то житейские проблемы, дружил, воспитывал вместе детей и так далее, в ситуации партсобрания вдруг проявляли неожиданно твёрдую принципиальность. «Чёрт с ними, с идеологическими установками, с партийными лозунгами, программой и уставом. Знаешь ты их или нет – наплевать. Но ты хочешь стать маленькой частью нас. Скажи честно – зачем тебе это нужно? Для карьеры? Ты хочешь стать комментатором, получить должность главного редактора или для чего-то другого? Или, став коммунистом и, дай Бог, вернувшись с войны, ты будешь продолжать врать с экрана про интернациональный долг? Или просто попробуешь объяснить в своих репортажах, зачем, а главное, с кем мы воюем в Афгане? Но ведь тогда ты потеряешь не только партбилет, но и удостоверение корреспондента Гостелерадио, причём навсегда. Ты это понимаешь?» До драки не доходило, но до слёз иногда. Возможное членство в партии обсуждалось и дома. Причём впервые я разговаривал не просто с добрым и одновременно строгим, мудрым любимым человеком, моим абсолютным тогда авторитетом – отцом. Вопрос «зачем» задавал мне комиссар роты морской пехоты, прошедший войну. И разговор был трудным, долгим, мужским. Начистоту. Слава Богу, отец жив и сегодня. Он не выбросил свой партбилет, но думаю, что переживал за всё, что делается в партии и в стране, куда больше, чем я. И для него слова «коммунисты, вперёд» значили больше, чем строчки известного стихотворения. И такое вот трепетное и в то же время критическое отношение к КПСС со стороны многих рядовых коммунистов было очень распространённым. Кстати, не только рядовых. Архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев 22 июня 41-го года встретил войну командиром взвода курсантов, молодым коммунистом.
– Убийство журналистки Анны Политковской – это ведь реакция на попытку изменить систему. Это не частный случай. И не «несчастный». Холодов, Листьев, Политковская...
– Как это ни горько говорить, но Владик Листьев никакого отношения к этому ряду не имеет. Никакого журналиста Листьева не убивали. Влад погиб в результате обычной в те годы криминальной разборки между своими. Вы знаете, на Ваганьковском кладбище через год после похорон на могиле Листьева был поставлен памятник. Четыре скромных гранитных ступени – «Взгляд», «Поле чудес», «Тема», «Час пик». Четыре ступени, по которым никому не известный, но безумно талантливый молодой журналист Владислав Листьев поднялся своим трудом до высоты всенародного любимца и настоящей, а не дутой телезвезды. И сколько ещё таких ступенек могло быть в его жизни? Через год этот памятник снесли. И на могиле теперь восседает гламурно развратная пышнотелая бронзовая тётенька и притворно скорбит. Так вот этот памятник, как ни горько сознавать, полностью соответствует той атмосфере, в которой и произошло это страшное преступление в 95-м году.
Дмитрия Холодова я не знал лично, но всегда с каким-то внутренним холодом читал его статьи. Ведь этот «телёнок» бодался не просто с дубом, а с «дубом» в многозвёздочных погонах.
Что касается Ани, то мы были близки и дружили много-много лет семьями. Её бывший муж, мой друг Саша Политковский, создатель на телевидении того жанра, который теперь называется расследовательской журналистикой, сегодня также, как и я, лишен возможности работать с полной отдачей. Я даже не могу вспомнить нашу первую встречу с Аней, столько лет назад это было. Её убили, потому что она в каком-то смысле продолжила «взглядовское» дело. Защищала права униженного, оскорблённого простого человека, которого власть зачастую лишала самого главного права. Права на жизнь. И делала она это не в тиши кабинета в центре Москвы, а в самых горячих точках, прежде всего – в Чечне. Она не только писала о преступлениях, она делала всё, чтобы их предотвратить. Либо если они происходили, то о них рассказать максимально полно и правдиво и обязательно назвать поимённо виновников преступления. Она была костью в горле у многих в разных смыслах «конкретных» людей. Руководства всё той же Чечни. Да и Кремль вряд ли был в восторге от того, что и как Аня писала в своей «Новой газете» и что и как она делала в жизни, не только как журналист, но и как гражданин. Но тут я скорее замолчу. Хотя бы в силу того, что хоть я бывал и работал в Чечне, по сравнению с Аней мой чеченский опыт – мизерный. И всё-таки, читая материалы Политковской, мне иногда хотелось бы не то чтобы поспорить о Чечне, а кое-что прояснить. У меня есть ощущение, что кадыровский этап развития Чечни, то есть усмирение вайнахов не с помощью наших войск, а с помощью внутреннего усмирителя, главы мощного влиятельного клана, который смог подмять под себя другие кланы, – практически единственно верный путь к миру в Чечне. Во всяком случае, мой опыт работы в горячих точках как журналиста и депутата и знания выпускника дипломатической академии не дают мне альтернативных путей. Давайте хотя бы вспомним историю с первым Шамилем, с которым сам генерал Ермолов долго не мог справиться, пока наша дипломатия не предложила другой путь разрешения кавказского кризиса. Не без участия русского императора Шамиль стал имамом. Мало того, он был милостиво одарен огромным имением, по-моему, где-то в Тульской губернии. А сын Шамиля не только стал своим при дворе, но ему была доверена охрана самого императора. Правда, потом началась какая-то мутная история. Шамиль отправился в Мекку на хадж и почему-то в дороге умер. Но это, как говорят в одной телевизионной передаче, совсем другая история. Суть не в этом, не можешь завоевать – покупай. Найди того, кто на это пойдёт. Дай ему полную власть – и ты победишь! Нарушений прав человека в Чечне, наверное, и сегодня много, но я также понимаю, что военный путь решения проблемы абсолютно тупиковый. При этом густо окрашенный кровью наших пацанов. Я против такого пути. Пусть сами чеченцы разбираются с собой. И, возможно, их пример станет примером и для Дагестана, и для Ингушетии. Ситуация на Северном Кавказе сегодня напоминает пожар на торфянике: огня не видно, а пятки жжёт. Только не надо говорить ни о каком суверенитете. Кавказ наш, российский, и любая свобода должна быть гарантирована всем, но в границах России. Как страшный сон надо забыть нелепую и преступную фразу Ельцина «берите суверенитета сколько хотите». Мы чуть-чуть не потеряли в результате не только Кавказ, но и Татарстан, и Башкортостан, и неизвестно, что потом бы стало с так называемыми Сибирской и Дальневосточными республиками. То есть на карту была поставлена судьба России как государства. Нельзя этого было допускать ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Обо всём этом я очень бы хотел поговорить с Аней. Теперь уже не поговорю. Никогда.
– Вам когда-нибудь угрожали всерьёз?
– Одно время не было дня, чтобы к нам с Сашкой Политковским не приходили письма с серьёзными угрозами. Дошло до того, что когда я стал народным депутатом России, президиум Верховного Совета принял специальное постановление о выдаче мне пистолета Макарова и боеприпасов, как было сказано, «в нужном количестве в соответствии с самостоятельным решением проблемы самообороны». Так я три года и проходил с кобурой под мышкой, хотя неизвестно, кто кого охранял больше. Но ведь понятно, что тот, кто убивает, не предупреждает об этом заранее в письме. Страшными для меня во времена «Взгляда» были другие вещи. Например, когда я привёз из Польши серьёзные документы о том, что действительно происходило в Катыни, где наши доблестные чекисты, а вовсе не фашисты уничтожили цвет польского офицерства, более 25 тысяч человек, со мной приключилось следующее. Кстати, документы эти я привёз, собранные для меня Анджеем Вайдой, отец которого был среди этих 25 тысяч, Марылей Родович и десятками других людей, расследовавших это дело в Польше. Так вот, в первый же день по приезде на родину меня вызвал к себе один из руководителей Гостелерадио. Сегодня этот благообразный седой господин раздаёт молодым журналистам ТЭФИ. Вероятно, говоря им какие-то правильные слова о журналистике, чести, достоинстве. А тогда в своём кабинете на 11-м этаже в Останкино он сказал: «Хоть одно слово о Катыни во «Взгляде» – и я позвоню своим (он показал на трубку красного телефона), и дочку свою ты больше не увидишь никогда». И было это в 1988 году, а не в «лихие 90-е», было при советской власти, при КПСС и при всём том, что сегодня называется закон и порядок. Когда я поднялся к себе на 12-й этаж и вошёл в кабинет, то увидел там перевёрнутый стол. Все материалы, которые я привёз из Польши, исчезли. Вот в каких реальных условиях работали мы. А уж когда я поднял тему захоронения Ленина, достаточно серьёзные люди и организации начали обращать на мою скромную персону особое внимание. Кстати, не только люди власти были реальной опасностью. Никто не заставлял того же Политковского лезть в четвёртый блок Чернобыльской АС после взрыва. А он поехал и полез. И сделал материал, который тоже запрещали к показу поначалу. Но зато этот материал показали все телекомпании мира. Но что для Саши было опаснее – получить смертельную дозу радиации или общаться с начальством – ещё вопрос.
– Часы на правой руке вы давно носите?
– С этих вот пор. (Показывает огромный шрам на левом предплечье.) Мне 13 лет. Я занимаюсь всеми видами спорта. А зимой особенно люблю прыгать на лыжах с трамплина в Кавголово, под Ленинградом. И однажды приземляюсь не на ноги, а на руку. В итоге – три операции. Руку собрали по частям. Почти год ходил в гипсе. Без часов было сложно. Вот с тех пор и ношу их на правой.
– Чуть раньше вы упомянули Людмилу Нарусову. Мне кажется, если б обратилась к своей дочке Ксении, то она все проблемы могла бы решить быстрее, чем мама-сенатор. Это я к тому клоню, миром правит сейчас гламур.
– Во многом так оно и есть, но не забывайте, что Ксюша не так проста. Она прекрасно образованна, умна, смела и, безусловно, талантлива. А вот почему она выбрала себе для публичной жизни маску приблатнённой хамки-полудурочки, участвующей во всякой телевизионной мерзости типа «Дом-2», – это большой вопрос. Если ради бабок, то это объяснимо, но безумно скучно. Ведь Ксюша не может не понимать, что телевидение сегодня – это вотчина тех, кто умеет делать бабки на всём: на проститутках, кабаках, маньяках и даже на имени Россия. С Ксюшей я был знаком ещё тогда, когда она ещё не была гламурной дивой, а была просто очаровательной маленькой девочкой, дочкой первого мэра Санкт-Петербурга. И у меня к ней сегодня, собственно, одна претензия. Для меня фамилия Собчак – знаковая. Это фамилия человека, вернувшего Питеру его историческое название и удержавшего город в начале 90-х на грани голодной смерти. Я не преувеличиваю. Были дни, когда, как в блокаду, продовольствия в Ленинграде оставалось на двое суток. И ещё Анатолий Александрович не пустил в город гэкачепистов. Вот что для меня Анатолий Собчак. И несмотря на то, что между мной как депутатом Верховного Совета РФ, к которому обращались за помощью мои земляки, и мэром Санкт-Петербурга, который в силу своего положения должен был оказывать эту помощь, но делал это далеко не всегда, были непростые отношения, когда фамилия Собчак произносится в связи со всяким похабством, а носитель этого похабства носит ту же фамилию, мне это больно и неприятно.
– Одним из кумиров молодёжи раньше был Сергей Бодров, он же Данила Багров. А сейчас – Ксюша и иже с ней?
– Вообще история с жизненными примерами для подражания и некими идеалами, которые мы с вами как журналисты должны выискивать и возводить на некий пьедестал, – сегодня большая российская проблема. Страна наша не стала беднее на героев и на достойных людей. Но «они сейчас – не формат». Эту циничную фразу, не стесняясь, произносят для меня абсолютно «неформатные» руководители Первого канала. Но вот парадокс. Я имел возможность в течение трёх недель наблюдать работу тех, кто делает Всемирную сеть Первого канала. Клянусь, это совершенно другое телевидение. Профессиональное, мудрое, доброе, моё. А делают его таким как раз те самые «неформатные» герои – и живущие сегодня, и уже ушедшие от нас, которых вы не встретите в передачах, идущих на Россию, того же Первого канала. Удивительно, но факт. Мы как бы вернулись в советские времена. На экспорт мы показываем действительно классное телевидение, для внутреннего пользования – удовлетворяемся продуктами его жизнедеятельности. Дошло до парадокса. В поисках героя для подражания РТР отправилось в прошлое. Искать имя для России на конкурсной основе.
В итоге – мало того, что затрепали само слово «Россия» как половую тряпку, так ещё и победил замечательный, но всё-таки актёр Черкасов, и не кого-нибудь, а лидера ядерной державы, одолевшей фашизм. Бред, скажете вы. Не всё так просто. Прав был усатый бандит. Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают.
Вообще же наше телевидение может измениться к лучшему. Если так случится, что хозяева «Останкино» станут гостями Лефортово. Но это дело не для прокурора, хотя в свою депутатскую бытность я держал в руках сотни документов, определяющих финансовую деятельность «Останкино» как воровство в особо крупном размере. Дело в другом. Сегодняшнее телевидение – это прямая угроза государственной безопасности страны. За 20 лет телевидением воспитано поколение не просто манкуртов, а некой массы людей, в спокойное время мирно ходящей раз в четыре года на выборы и правильно голосующей. Но в эпоху кризиса эта мирная толпа, лишённая какого-либо нравственного начала, может мгновенно превратиться в озверевшее стадо. И тогда не поздоровится не только телевизионным руководителям.
– Я знаю, что вы – человек православный.
– Крестили меня в нежном возрасте. Причём это было страшной тайной в семье. И прежде всего от отца, партийного работника. Честно могу вам сказать, что церковь вошла в мою жизнь где-то в старших классах. То есть задолго до того, как церковь стала возвращаться в нашу жизнь как полноправный общественный институт. Но вот что удивительно. В те годы я бывал в храмах чаще, чем сейчас. Причём нам с другом очень нравилось ездить на выходные в Прибалтику и бывать там в костёлах, сидеть в тишине или слушать орган, рассматривая при этом их удивительную архитектуру, либо просто прислушиваться к себе было здорово. Я не знаю точно, что я там делал. Не молился уж точно. Но был там, и храм был во мне. Впрочем, как и в православных церквях. Много лет спустя я увидел Ельцина по телевизору в храме со свечкой в руке и тех, кого тогда называли подсвечниками. И что-то внутри меня сломалось. Я понял, что не хочу быть с ними.
– «И ни церковь, ни кабак, ничего не свято…»
– Да. И поэтому есть для меня лишь маленькая церковь, где мне всегда хорошо. Она находится в Подмосковье, недалеко от того места, где мы живём. Она дорога мне не только тем, что я в ней венчался, но и тем, что там служил настоятелем убиенный впоследствии отец Александр Мень. Мы были с ним хорошо знакомы. И, кстати, он должен был быть одним из участников той знаменитой передачи о мавзолее. Извините, что возвращаюсь к ней ещё раз, но ведь за Уралом, в том числе и в Красноярске, её никто не видел. Всё, что мы в ней сказали, можно было сказать только один раз по первой программе в живом эфире. Ну да Бог с ним со всем. Просто есть в моей душе что-то, что делает для меня церковь своей. А вот воцерковленности во мне нет. Но был в моей жизни акт настоящего покаяния. Я много раз в своих передачах поднимал тему восстановления храма Христа Спасителя. И когда, наконец, решение было принято, ко мне во «Взгляд» пришёл священник и объявил счёт для пожертвований. Это было в пятницу, а рано утром в субботу я пошёл на Центральный телеграф, что на улице Горького, ныне Тверской, с правой стороны, там, где сейчас аптека, работала сберкасса, и я положил на счёт восстановления храма свои честно заработанные 10 рублей. И мне почему-то подумалось, что это же делают сейчас в стране если не миллионы, то хотя бы тысяча людей. Я был счастлив, что это происходит, в том числе и благодаря мне. И почему-то вспомнилось мне тогда, как я был вызван на Старую площадь, в идеологический отдел ЦК КПСС, после того как у меня в передаче впервые в истории советского телевидения в прямом эфире участвовал священник. Не предлагая сесть, меня спросили грозным голосом: «Мукусев, это правда, что ты пригласил попа на передачу?» Я ответил: «Да, я действительно приглашал священника, потому что считал необходимым начать разговор о тысячелетии Крещения Руси. И что это значит для нас сегодня». – «А, так у вас юбилей, господин Мукусев? – прошипел один из главных идеологов страны. – Так вот в следующий раз ты пригласишь попа на наше телевидение только тогда, когда будет следующий тысячелетний юбилей. Ты всё понял…» Тогда я вроде бы понял всё, но сегодня мне не совсем понятно, почему те, кто общался с нами таким образом совсем недавно, сегодня всё ещё у власти и стоят под телекамерами со свечками в храме Христа Спасителя. Так что у меня в этом смысле с церковью сегодня какие-то непонятки. Для меня всё-таки церковь и вера – разные вещи.
– Ваша сравнительно недавно вышедшая книга называется «Разберёмся…». Сами-то разобрались?
– Нет, думаю, это не финал. Скорее процесс. Надеюсь, вечный. Как и сама профессия – журналист. |