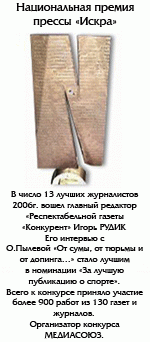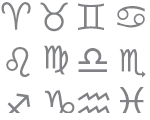В своем последнем романе «День опричника» он описывает
2027-й год. В России абсолютное самодержавие. Попасть на завтрак к государыне считается великой милостью. Мавзолей снесён. Кремль покрашен в белый цвет. В аптеках продаётся кокаин по 2,50 руб., по городу носятся красные «мерины» опричников, а страна отделена от прочего мира Западной стеной.
Как он сам отметил в одном из интервью, Россия уже строит такую стену, она повернулась назад, к изоляции от Запада, в XVI век. Власть превратилась в чиновничий аппарат, который новому президенту не изменить, кем бы он ни был. Писатель задолго до последних выборов был уверен, что на них уверенно победит Дмитрий Медведев и символично станет главой «медведя», доселе спавшего в берлоге и видевшего беспокойные сны.
Жаль, конечно, что не довелось побывать в его загородном имении, где, по рассказам посвящённых, идиллический покой способны нарушить разве что дети его покойного соседа Артёма Боровика, гоняющие на квадроциклах. Там в углу гостиной стоит рояль, а на рояле – старинный канделябр и мотоциклетный шлем с трещиной, спасший ему жизнь в дорожной аварии.
С неё, пожалуй, и начнём наш конкретно-конкурентный разговор.
– Владимир Георгиевич, на Боровском шоссе вы попали в серьёзную автомобильную аварию. Это что было? Уж не покушение ли?
– Нет, это было круче. Столкновение с русской метафизикой. Я живу за городом, в Подмосковье. Мне на пятидесятилетие режиссёр Иван Дыховичный подарил большой скутер. И я его полюбил. Мы с ним подружились, стали даже разговаривать между собой. И я ездил на нём...
– Подружились со скутером или с Дыховичным?
– Со скутером, конечно. А с Дыховичным мы старые друзья. Я в тот злополучный день съездил на рынок, купил фруктов для своих домашних и возвращался по практически пустой дороге. И вдруг на меня налетает и сбивает откуда ни возьмись появившийся «КамАЗ». И уезжает. Вот – вся история...
– Когда это случилось, помните?
– Память, слава Богу, не отнялась. Это было ещё седьмого сентября.
– И что вы думаете обо всём этом? Загадка, от которой гадко?
– Выдвигались разные версии, в том числе и такая, что это всё было устроено нарочно. Но я просто думаю, что сидевший за рулём человек либо откровенно плохо водит, либо это какой-то хулиган, который ненавидит скутеристов.
– В любом случае он не в ладах ни с совестью, ни с головой. Он уехал, он скрылся с места происшествия. Он совершил уголовное преступление.
– Да, уехал, даже не поинтересовавшись, живой ли я.
– Возбуждено уголовное дело?
– (Грустно улыбается.) Знаете, мне несколько раз звонили из так называемой ГАИ, из милиции. Но я думаю, что они просто боятся за это браться, потому что на их сленге это всё называется «глухарь».
– Но ведь «КамАЗов» в Подмосковье не миллион!
– Дело в том, что они все одинаковые, чисто внешне. И найти такую машину среди моря близнецов просто нереально. У нас ведь дороги очень мало где оборудованы камерами.
– Постараетесь забыть это всё?
– А я уже. Чем хорош организм человеческий? Я вот помню, например, как очень даже красиво падал. А всё остальное память как бы вытеснила из себя. Это механизм такой защитный включился. Так что я избавлен от мук воспоминаний. Но теперь во мне титановая пластина и восемь шурупов. Это обязывает…
– Не знаю, с юморком или «на полном серьёзе» вопрос: это как-то отразится на вашем творчестве?
– Да вообще всё отражается на творчестве. Даже чирикание воробьёв за окном. Отразится и это, наверно. Надеюсь, что с куском титана внутри я буду писать твёрже. (Улыбается.)
– А что сказала по этому поводу ваша жена? Утешала?
– Ну как что? Она – человек, который приехал туда сразу же и увёз меня домой. Она в курсе всех событий, даже лучше меня. К счастью, всё это в пяти минутах от нашего дома произошло. В противном случае не уверен, что обошлось бы благополучно.
– Сейчас со здоровьем у вас всё нормально?
– Да вроде ничего. Я всё-таки стараюсь вести здоровый образ жизни.
– В чём это заключается?
– Я понимаю, что все беды писателя идут от письменного стола. И стараюсь двигаться. Зимой каждое утро хожу по снегу. Причём хожу голым. В общем, пытаюсь отвлекаться.
– Лев Толстой ходил по сырой земле, получая энергию, а вы, значит, по снегу…
– Я очень люблю Толстого, это один из «моих» писателей. Вот как вы думаете, кстати, сколько у него было гектаров земли в Ясной Поляне?
– Я знаю только, что весь Ватикан – это всего 44 гектара…
– Тысячу гектаров Толстой имел! Так что есть чему завидовать… Снег – наше богатство, как и нефть, и газ. То, что делает Россию Россией в большей степени, чем нефть и газ. Снег мистифицирует жизнь, он, так сказать, скрывает стыд земли. Я лучше пишу зимой. К тому же я могу писать, только когда дневной свет. И эта синева за окном — она очень возбуждает. Вообще, когда холодно, у меня обостряются все человеческие чувства.
– Когда, как вы говорите, «ходите по снегу», о чём-то, вероятно, и мирском задумываетесь. Не всё же о сугробах. Так вот, есть ли в мире сейчас что-то такое, что вас как мыслителя, как писателя действительно тревожит, раздражает, не устраивает?
– Раздражает-то многое. Прежде всего, конечно же, нарастающая дебилизация масс. Это повсеместно. Но, наверное, в этом есть какая-то своя закономерность. Ещё Ницше писал: «Я покажу вам последнего человека. Последний человек размножается как блоха, смотрит на звёзды и спрашивает: «А что такого?» Но то, что действительно тревожит, – это происходящее сейчас в России. Мы опять поворачиваемся…
– …лицом к красному восходу?
– В сторону «совка» всё-таки. Я это всё проходил. И я по-настоящему ненавидел совок. Мои первые литературные вещи – это как раз такая реакция на советскую действительность. Если это опять вернётся, пусть и в каких-то новых формах, то это будет невероятно печально.
– Ваш судьбоносный отказ от вступления в комсомол – действительно был сознательный акт? Или просто так карта легла?
– Это чисто моё решение. Я ведь тогда уже не зелёным юнцом был и отдавал отчёт своим решениям. Это уже была моя достаточно взрослая пора. Я пошёл работать в журнал «Смена» уже, в общем, повидавшим жизнь. И там они меня стали уговаривать.
– Руководство редакции? Типа у нас, в таком идеологически выдержанном журнале, негоже работать некомсомольцу?
– Да, да, да. И я год их кормил обещаниями. Потом они устроили мне финальную сцену штурма… И я оттуда ушёл.
– А с чего начинался ваш цивилизованный антисоветизм?
– Дело в том, что, к счастью, я очень рано попал в круги умных и одарённых людей, которые занимались собственным творчеством. И имели своё мнение на окружающую действительность. И они на многое открыли мне глаза. Это, кстати, покойный Дмитрий Александрович Пригов. Это Эрик Булатов. Это Лидия Чуковская. Это художник Илья Кабаков… И потом, я раньше ещё, в институте, очень серьёзно увлекался рок-музыкой и сюрреализмом. Я вообще полагал, что пойду по художественной части. И рок-музыка, и сюрреализм – это феномены свободного общества, два таких роскошных цветка, которые не могли вырасти в подполье.
– Рок и сюр – это Запад. У нас всё это было вне формата. От этого тоже вырабатывалось отвращение к совку?
– Конечно. Безусловно, я предпочитал «Led Zeppelin» Эдуарду Хилю, Иосифу Кобзону и…
– …и Муслиму Магомаеву?
– Ну, Магомаев хотя бы ещё и оперный певец был. А я любил оперу, на самом деле. А вот «Uriah Heep» для меня действительно лучше «Самоцветов». И через всё это тоже проникала идея демократии. Люди должны жить так, как они хотят, а не так, как за них решают.
– Одно дело – не соглашаться, но всё же идти с толпой в тот же комсомол, а другое дело – в такой стране, как Россия, писать такие невероятные, невозможные и «возмутительные» вещи, какие удаются вам. Совсем недавно у нас все застёгнутые ходили. И вот вы – со своей эпатирующей прозой. В конце концов, не страшно ли было? Ведь у нас замочить могут и за меньшую «крамолу». Здесь же поистине ядерные фобии…
– Вы знаете, я как-то очень рано понял, что если человек начинает писать в России, то он может делать только одно: либо писать, либо не писать. Иного не дано. Если ты боишься, ну не пиши тогда. Но эта страсть развилась намного сильнее меня.
продолжение на 3 стр. |