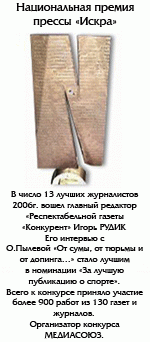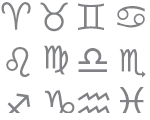начало на 1 стр.
Безусловно, были годы тревожные, допустим, восемьдесят четвёртый, когда начались обыски у моих друзей. Меня доставляли в милицию. Кагэбэшник разговаривал со мной. Вообще не пахло никакой перестройкой тогда. И казалось, что всё, п….ц, будет хуже и хуже, начнут с обысков, потом навесят дел. Но, опять же, у каждого человека, безусловно, есть свой ангел-хранитель. И надо ему доверять. В ряде ситуаций некие силы меня спасали.
– А что за лейтмотив допроса от КГБ?
– Это было вообще замечательно. Доставили меня в районное УВД. И там оперативник, начальник следственного отдела, майор, мне заявляет: «Владимир Георгиевич, в вашем районе произошло мерзкое преступление – изнасиловали малолетнюю. Мы ищем уже полгода этого мерзавца. Показали фотографию вашу, и девушка признала вас!» Я сижу подавленный и думаю: «Что же сейчас будет?» Ведь какие времена тогда были! Это умер уже Андропов, и стало ещё хуже тогда, при Черненко. И был тогда такой крутой деятель – Федорчук. Он посадил вообще всех, кого только можно. И я подумал: «Сейчас войдёт эта девушка – и всё для меня будет решено. Либо всё-таки они пугают». А я люблю в шахматы играть. И шахматы всё-таки учат необходимой выдержке. Я подождал. А он как-то обмяк, затушевался: «Ладно, с вами сейчас поговорят», – и вышел. А зашёл совсем другой человек – в цивильном костюме – и представился сотрудником госбезопасности. Я говорю: «А что это было здесь только что?» – «Это у них как бы для профилактики».
– Испугали с тонким намёком?
– Вероятно, так. А у меня как раз роман «Очередь» лежал в парижском издательстве «Синтаксис». И он вот-вот должен был выйти. Я терялся в догадках: знают ли они про «Очередь» или нет? Оказалось, что, к счастью, об этом они даже не подозревали.
– С времён тех дальних – да в наши радостные дни. На ваших дочерей никак не распространяется разнообразная известность отца?
– Вряд ли она им мешает. Они уже взрослые, старшей двадцать семь лет.
– Замужем?
– Старшая – да. Одна у меня альтистка, другая занимается документальным кино.
– Вы такой видный, импозантный мужчина. Видимо, и жена у вас красавица? Ухаживали за ней долго?
– Это сложилось как нечто фатальное. Случайно встретились. И буквально через несколько дней я понял, что Ирина – моя половина.
– И даже скажете сейчас, что вы такой однолюб, каких мало.
– Да, я однолюб. Но, так сказать, у меня в жизни были разные периоды, в том числе и богемный, когда действительно довелось пройти через многое. Разное бывает в жизни. Но мы как-то сохранили эту нашу привязанность и крепкую семью.
– Кто самая красивая женщина в мире? Обычно говорят, что «моя жена». А кроме жены?
– Безусловно, всё-таки моя жена. Дело в том, что я вообще очень люблю женщин. И у меня нет некоего эталона красоты.
– Типажи вообще отсутствуют? Может, хоть актриса какая вспомнится?
– Актрисы? Это как-то глупо получится. Иногда просто в жизни встречаешь кого-то и удивляешься, что это и внешне, и внутренне очень красивый человек, но его не замечают. Вообще у меня важные, судьбоносные события в жизни происходили при помощи женщин. Я познакомился с кругом андеграунда через зубного врача, которая лечила Эрика Булатова. Женщина открыла мне веру – я пошёл и крестился в 25 лет. И много таких событий случалось, которые удерживали меня от каких-то роковых шагов. Я помню, был тогда ещё студентом, и мы поехали в дом отдыха в Зеленоград. И там по-студенчески круто оттягивались. В результате возникла такая напряжённая ситуация, когда некий пьяный местный парень стал клянчить деньги. Я вмешался, возник конфликт, и он разорвал мне рубаху. Я был тогда нетрезв. И вдруг я почувствовал, что сейчас пойду и просто-напросто убью его. Ослепление какой-то сумасшедшей яростью случилось. И вдруг, как из-под земли, возникла женщина-уборщица. Её там вообще не было. Как ангел спасающий слетела откуда-то... (Смеётся.) И она меня остановила. Было у меня немало случаев типа этого.
– Можете ли вспомнить первый опыт жестокости в вашей жизни?
– Я вырос в таком обществе, где всё давило, начиная с родителей, детского сада, улицы… Везде шёл прессинг. Это же лагерь был, понимаете, где каждый день кого-то п….т, что считалось нормальным.
Вот одно из ярких впечатлений. Меня отец повёз в Крым. Сняли домик с персиковым садом. Я сорвал персик и слышу за забором странные звуки — то ли плач, то ли хныканье. Я заглянул за ограду, а там зять бил тестя своего, немощного старика. И тот спрашивает эту полупьяную скотину: «За что ты меня бьёшь?» Зять отвечает: «А просто так!» И вот это сочетание – с одной стороны, персика, неба роскошного, моря шевелящегося, запахов южных, цикад, а с другой – тупого регулярного зверства – осталось на всю жизнь. На уровне вытянутой руки.
– Всё равно вы не назвали ни одной красивой женщины по имени, кроме жены. Не будем, что ли, пытаться?
– Ну да. Раз уж сразу не вытанцовывается, незачем и напрягаться.
– Несколько раз вы намекаете, что некая предопределённость существует: ангел-хранитель, роковое стечение обстоятельств. У вас уровень религиозности действительно серьёзный?
– Дело в том, что я человек верующий, но я редко захаживаю в церковь. И мне как-то кажется, что не всегда нужно посредничество между высшими силами и человеком. Ведь и сам Христос сказал, что наступит время, когда люди будут молиться не в храме, а где хотят. Но я всегда чувствовал, что этот мир – не случайность. И мы не случайны. И в этом мире большая загадка существует. Наша жизнь, видимо, нам и дана для того, чтобы её разгадать.
– Но вы ведь всё равно знаете, как материалист по образованию, что цивилизация конечна, что придёт время – и не то что отдельный человек, а все-все-все обречены уйти в небытие, исчезнуть без следа.
– Вы знаете, ведь и у гусеницы, когда она ползает в траве, даже в мыслях нет, что можно подняться над этой травой и увидеть это всё – голубое небо, золотое солнце и так далее. Она окукливается и становится бабочкой. И совершенно забывает про свою гусеничную жизнь. Я думаю, что нас ждёт нечто подобное.
– А это не «гусеничная жизнь», что надо ходить на выборы, кого-то, куда-то и зачем-то выбирать? Или это нечто достаточно высокое, окукленное уже?
– Это… (Смеётся.) Я бы сказал… Это проза жизни.
– Вы обычно ходите голосовать?
– Если есть из кого выбирать. Я в брежневское время не ходил ни разу и вообще повторения его не желаю.
– По телевизору недавно писатель Ерофеев принципиально спорил с режиссёром Михалковым...
– Это я видел.
– Вы на чьей стороне?
– Витя – мой друг старый. Но мне кажется, что он был очень мягок с Никитой и слишком деликатен.
– Проблема, которую он поднял, была достаточно благородной: «Не делайте из президента России султана. Не надо подобострастно лизать его…»
– Да, да, безусловно.
– Вот вы Христа упоминали… Теоретически вы могли бы к его заповедям добавить хотя бы ещё одну, от себя?
– Там, в Библии, есть всё. Абсолютно всё. И не стоит ничего пытаться усовершенствовать.
– Там об экологии ни слова. Кстати, волнует ли вас то, что буквально за какие-то жалкие десятилетия здоровье планеты, формировавшееся миллиарды лет, подорвано уже необратимо?
– Это ужасно и дико. Этому нет прощения. Но меня утешает, что большая часть моей жизни уже прожита. И я видел ещё чистый снег, дышал свежим воздухом в Подмосковье, когда был мальчиком. Ездил в роскошные леса. Видел животных. Да и всё-таки на планете есть ещё неотравленный воздух.
– Просто не дотянулись ещё до тех мест великие преобразователи мира.
– Да, пока это спасает природу.
– А что можно сказать об «атмосфере» в литературе? Ерофеев в разговоре уже прозвучал. А как вам другие современники – Акунин, Пелевин, Дмитрий Быков, Лимонов? Кого-то из них вы считаете своим конкурентом?
– Если говорить о конкуренции, то ответить достаточно просто: то, что делаю я, не делает никто. У меня очень специфическая проза. И я вообще не чувствую конкуренции. А что касается перечисленных и, так сказать, великих имён, могу заверить, что я их всех уважаю. Если же говорить об идейной близости, то мне близко то, что делает Витя Ерофеев и что делал когда-то Лимонов, когда он ещё занимался только литературой. Ну, и Витя Пелевин тоже, конечно, молодец. Хотя не всё, что он делает, мне нравится.
– А Дмитрий Быков – это мода? И мода пройдёт?
– Я откровенно скажу, что это не самый мой любимый писатель. Кто-то любит Быкова, но это не я. Мне всё-таки нравится другое. Мне хочется каких-то тайн, литературной работы серьёзной…
– Среди собственных «детей»-произведений любимчики есть?
– Любимчики – это обычно последние произведения. В этом плане актуален для меня сейчас «День опричника». Люблю ранние свои вещи, но я редко что-то перечитываю.
– У вас очень чистая по структуре проза. Сам синтаксис вызывает почтение…
– Стараюсь.
– Это дар Божий? Или чертовски упорная работа над собой тоже?
– Я стараюсь прочувствовать прозу как музыку, как мелодию. Я ведь, в принципе, связан с музыкой, занимался в своё время, рос в семье музыкальной. Жена – бывшая пианистка, здесь тоже есть влияние. И ещё я люблю у других людей читать то, что сделано без фальши. Но это трудно объяснить подробнее.
– А из «классических классиков» всех признаёте?
– Да, конечно. Это ведь наш главный национальный бренд – русская литература. Как и русская водка. Я очень люблю Толстого, Гоголя. В принципе, люблю весь девятнадцатый век. Достоевского, конечно. Из более поздних – Набокова. Русская литература вообще-то очень цельна, но если говорить о золотом её времени, то это именно девятнадцатый век.
– Наверное, сейчас уже некогда много читать?
– Но я всё равно стараюсь выкраивать для этого время. И многое перечитываю с удовольствием. Вот сейчас – Тургенева. Купил его собрание сочинений и погружаюсь. Сейчас на его рассказах остановился. Когда самому не пишется, как раз неплохо перечитать что-нибудь.
– Одно из ваших увлечений – шахматы. Эта игра в последнее время обрела гигантскую проблему из-за внедрения в её суть суперкомпьютеров, просчитывающих миллиарды операций в секунду. Машины в корне видоизменили шахматы. Не грозит ли нечто подобное и литературе?
– Если задуматься: а что вообще такое – литература? Человек соединяет слова в предложения – и получается некая ткань. Ты можешь всё что угодно использовать при этом, в том числе и суперкомпьютеры… Но если ты не чувствуешь процесса, не понимаешь, как надлежит ткать этот ковёр, то ничего тебе не поможет.
– А объём творчества какого-то писателя вас никогда на поражал? Вы же знаете, сколько за день можете написать. И когда сопоставляете все эти пузатые тома на полках с собственной «производительностью труда»…
– Я немного пишу.
– Страшно или завидно не становилось, глядя на наследие того же Диккенса или Бальзака?
– Ну, Диккенс… Нет, мне как раз близки те авторы, которые написали немного, но хорошо.
– Как тот же Набоков?
– Набоков. Или Гоголь. Или Толстой. Нет, Лев Николаевич, конечно, много писал, но чистой прозы у него не гигантское количество.
– Может, назовёте какие-то самые характерные черты вашего характера?
– Негативные только. Я непоследователен, впечатлителен и слабохарактерен. Что, в общем-то, меня самого раздражает. (Смеётся.)
– «Слабохарактерный» – для меня это значит «не жестокий, не мстительный, не злопамятный». Это так или нет?
– Наверно, да. Этих качеств у меня нет, конечно. Но порой хочется больше жёсткости в отношениях с некоторыми проявлениями этого мира. Иногда хочется твёрдости, решительности.
– Но вам ведь и драться в юности приходилось. Неужели это не закалка?
– Нет, ну, к счастью, хоть что-то было, да! (Смеётся.)
– А какие-то причуды, хобби, увлечения для вас характерны?
– Я люблю шахматы, пинг-понг. Что ещё? Обожаю собак. Люблю с друзьями общаться.
– А не жаль, что был великий шахматист Гарри Каспаров – и вдруг он стал практически никаким политиком. Не пущают…
– Ну да, я знаю. Он человек достойный. Я за него болел ещё во время его эпохальных противостояний с Карповым. И за шахматной доской Гарри Кимович уже сыграл свою лучшую партию. А как политический деятель он не в лучшее время попал.
– На политическом поле слишком много чёрных клеток?
– Да. И чёрных фигур, я бы сказал, гораздо больше. Конечно, шахматист он классный был. Но против лома очень трудно играть в шахматы.
– Стиль одежды что-то для вас значит – по отношению к другим или к себе?
– Я очень быстро покупаю вещи, которые нравятся. Чувствую именно ту, которая мне подойдёт. Но у меня нет какого-то специального стремления в этом отношении, я не акцентирую внимания на данной теме. Пошёл я вот вчера на концерт Плетнёва и потом уже понял, что приехал без пиджака. И неудобно даже стало: классическая музыка всё-таки….
– Есть такая современная тенденция – «метросексуализм»: денди, щёголи, молодёжь педикюрится, маникюрится...
– Каждому своё, что ж...
– То есть это как одна из веток цивилизованного мира. И ломать её не стоит, пусть качается?
– Я вообще не сторонник ломать и что-то осуждать, если это не явно вредное явление. Пусть и маникюрятся себе на здоровье молодые люди, кому-то даже идёт...
– Алкоголь – вселенское зло?
– Был период, когда он был важен: 80-90-е годы. Важен в плане релаксации. Мы как-то говорили об этом с Юрием Витальевичем Мамлеевым. Он рассказывал про интеллектуальное подполье 70-х годов и признался, что года три был пьян каждый вечер. Я спросил, почему тогда алкоголь был так важен. Он ответил, что это была защита от общего кретинизма. Так что в России алкоголь носит характер своеобразного наркоза.
– В какой ещё стране, кроме России, вы могли или хотели бы жить?
– Я и жил периодически. Пожалуй, я мог бы останавливаться в Германии, у меня там друзей достаточно. Но жить там постоянно… Не думаю, что смог бы.
– Действительно ли есть «загадочная русская душа»? Или просто это издержки необустроенности и плохого климата?
– Для русского писателя, наверно, очень важно находиться в поле языка. Всё-таки Набоков хоть и много в этом плане хорохорится, но он страдал из-за этого. Примечал в предисловии к «Лолите», что «я написал мой лучший роман, к сожалению, не по-русски, а по-английски». Видимо, я всё-таки очень подвержен русскому влиянию, от местной ментальности завишу. Я питаюсь этим воздухом слов, русской реальностью насыщаюсь.
– А бывает, что вместе с подавляющим большинством народа вы попадаете в какую-то эмоционально-патриотическую струю? Допустим, такой был футбольный «сталинград» – Россия–Англия… Или то же «Евровидение». Как-то вы зажигаетесь, когда все вдруг объединяются, воодушевлённые общей идеей?
– Дело в том, что я равнодушен к коллективным играм. Футбольная и любая массовая истерия, истерия толпы для меня чужды. В общем, я не чувствую подобной солидарности. Толпа практически всегда безлика и примитивна.
– Зато персоны наши куда как колоритны, прихотливы и непредсказуемы. Хочу вас про Эдуарда Лимонова спросить. Вы с ним в чём-то даже похожи: два седых мэтра, оба с такими троцкистскими бородками, донельзя эпатажные… В любом случае, не уважать его нельзя.
– Нет, конечно. Я его уважаю как литератора.
– И ведь он очень странно поступил, уйдя в какую-то странную политику, ещё даже более странную, чем сейчас у Каспарова.
– Согласен. Но ведь у каждого своё. В конце концов, есть некая закономерность: когда русский писатель бросает писать, он начинает по-своему сходить с ума. Как Лев Николаевич, например, который начал пахать, учить малых детей азбуке, одеваться как простой мужик. А Лимонов подался в такую странную политику. Нет, ну а что невероятного? Байрон вообще пошёл воевать. Каждому – своё.
– Но вы-то далеки ещё от подобной метаморфозы? Ещё не всё вспахали на литературной ниве?
– Мне пока пишется, знаете. Я не собираюсь изменять литературе. Пока не собираюсь.
– А что может послужить для вас стимулом вдохновения? Хотя бы хороший сон? Или это вообще не регулируется никак? Было плохо, сел – и пошло хорошо?
– Это абсолютно мистические вещи. У тебя могут быть замечательные идеи, ты прекрасно чувствуешь себя, нет никаких отвлекающих дел, ты садишься – и ничего. А может буквально «прорвать». После «Сердец четырёх» я семь лет не писал романов. Какие-то рассказы, какие-то пьесы, сценарии… И я не думал вообще писать роман. И вдруг неожиданно совершенно… Я сидел – это было под Берлином – в уютном уединённом месте. И просто скучал у окна, возле которого росли ель и сосна. И я увидел там белку. Белка бежала сначала к сосне, а потом – раз – прыгнула на ель и стала быстро-быстро карабкаться по ней, ну просто как бы покатилась вверх по дереву. И у меня в голове что-то вдруг буквально щёлкнуло – и я сел писать «Голубое сало».
– Работаете в основном за компьютером? От руки ничего не пишите?
– Нет, некоторые вещи приходится делать рукописно. В «Сале» я тексты клонов прописывал как раз от руки, чтобы сохранить их аутентичность.
– А когда началось ваше «большое писательство»? В школе свой литературный дар вы уже ощущали?
– В школе я написал настоящий эротический рассказ. Это получилось так легко, что мне потом даже стыдно было подписывать его своим именем. И я сказал, что перевёл его с английского. Никто ничего не заметил! (Смеётся.)
– Ходил по рукам, наверное, рассказ этот? Тогда ведь «клубника» дозволялась разве что от Мопассана.
– Да, рассказ разошёлся. И даже исчез. Но мне, повторюсь, показалось, что очень легко далось мне это ремесло. И на время потерял я интерес к сочинительству. А уже потом написал охотничий рассказ.
– Прямо как Тургенев…
– Просто у меня дедушка лесником был. И я весь охотничий мир хорошо знаю. Вот и написал охотничий рассказ.
– Но хотя бы где-то в подкорке имели в виду Ивана Сергеевича?
– Ну, конечно, я подражал русской литературе. А как иначе? Поначалу это же естественно.
– В школе отношения с родной литературой были «родными»?
– У меня литература всегда шла легко и хорошо. И я по-настоящему её любил. Я очень рано прочитал Гоголя, например. Когда ребята ещё читали Майн Рида… Я не любил ни Майн Рида, ни Фенимора Купера – у них тайны для меня не было. Какие-то события, убийцы… А вот у Гоголя «Вий» – такой интригующий, «Страшная месть» – загадочная, полная мистики… Уэллса я очень любил. Литература и как сугубо школьный предмет давалась мне легко.
– Вы ещё и автор киносценариев. А любите ли кино как зритель?
– Да, обожаю просто.
– Пару-тройку фильмов, может быть, назовёте?
– Легче назвать режиссёров. Я люблю Хичкока, Эйзенштейна, Кубрика, Линча.
– А из отечественных?
– Близки мне Зельдович, Дыховичный, Хржановский. Жду от них продолжения.
– Внешне вы похожи на актёра…
– Когда я был мальчиком, то очень любил изображать соседей, друзей, актёров. Но очень сильно заикался и разговорился только в студенческие годы.
– Стеснялись говорить?
– Да, был некий барьер. И я не любил выступать публично: возникали проблемы, когда надо было доклад какой-нибудь делать, – просто сумасшествие какое-то.
– Но желание выступать оставалось?
– Да, и больше всего удавались пародии на Брежнева. В студенчестве – а я окончил нефтяной институт имени Губкина – у нас была такая виртуальная группа ТК («Тормоз коммунизма»), где мы резвились на этот счёт.
– Интересно, у вас есть какой-то основополагающий афоризм?
– Живи и давай жить другим. И ещё: не умирай раньше смерти. Это многое значит.
– Не торопись «туда», оно всегда успеется?
– Нет, нет. Не торопись делать печальные выводы. Всё ещё может измениться.
– А если попытаться осмыслить смерть? Когда роковой час нагрянет, в идеале следовало бы принять это всё философски и, желательно, легко и красиво?
– Полагаете, у вас будет время всё это осознать и исполнить?
– Чем же утешиться бедному атеисту? В раю ведь даже телевизоров нет!
– Но вы же на земле не один жили. Что-то успели сделать. Это и должно утешать.
– Вы несколько раз упоминали о «мистике». А могли бы на посошок припомнить что-нибудь из этой оперы?
– Всего полно было, но что-то я не могу вспомнить так сразу. Хотя постойте… У меня был совершенно мистический случай. Я взял такси в Москве, еду. И вдруг вижу, что за рулём сидит… Виктор Пелевин. Таксист – один к одному просто. Пелевин вылитый! И эти его очки... Я сначала подумал, не пошёл ли Виктор подработать, набраться материала в народе. И думаю: «Да, бывает же». И замечаю, что он так в зеркальце на меня поглядывает. А я сзади сидел. Машина на светофоре останавливается, он ко мне тогда обращается: «Извините, можно вопрос задать?» Я говорю: «Да, конечно». – «Это вы написали «Голубое сало»? – «Да». – «Ну вот, а я ведь сразу угадал, с первого взгляда просто, что вы – Виктор Пелевин!» |