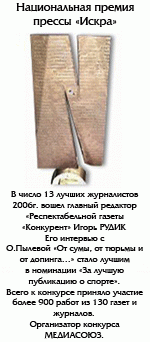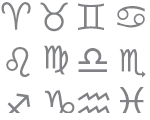начало на 1 стр. – Коллекционер дорогих картин, как и сапёр, не имеет права ошибаться. А то можно такое приобрести!
– Что касается современного искусства, тут уже можно спорить о взглядах, уместно говорить о вкусах – что и почему нравится или не нравится. Я считаю, что существует единственный критерий, который правильно подходит для определения ценности картин. Он установился ещё с тех времён, когда дадаисты фактически отвергли каноны прямого отображения действительности и предложили концепцию её эмоционального отражения. Именно тогда искусство стало провоцирующим. И в современном мире, который интерактивен по своей сути, эта провокация играет очень ярко выраженную позитивную роль. Она будоражит. Она заставляет думать. Современный зритель – не пассивный созерцатель, который хочет увидеть нечто и сказать потом «это похоже» или «не похоже». Похожесть – это фотография, сейчас она практически каждому дана в виде доступных камер. А то, что вызывает эмоциональный взрыв, уже есть явление абсолютно другого подхода.
– Ваша эстетика наверняка формировалась независимо от коллекционирования. Ещё задолго «до того». И волновали вас художники, которых вы полюбили именно за их божественный дар.
– В этом плане немало мне посчастливилось. Когда ещё учился в школе, я ходил в художественный кружок, который вёл один замечательный человек. Звали его Георгий Гаврилович Завьялов. Был он превосходным художником. Он мало известен миру, но для меня он сыграл исключительную воспитательную роль. Под его руководством мы делали эстампы и линогравюры. Это было очень интересное действо. И помимо всего прочего, мы ещё много ходили по музеям. Поэтому у меня действительно были любимые художники. Мне очень рано запали в душу импрессионисты. Мой самый любимый художник – Клод Моне. В юности он абсолютно потряс меня. Есть у него такие картины – «Скалы в Бель-Иль» и «Руанский собор», показанные в разное время суток – полдень, полночь. Он настолько потрясающе передавал цветожизнь и все ощущения колорита, что меня это, без преувеличения, просто сразило. Я определённо могу сказать, что творчество Клода Моне стало для меня очень важным элементом формирования художественного и эстетического воззрения.
– Вы говорили о сельских аукционах. Это в основном Англия?
– Англия и Шотландия.
– Как серьёзный коллекционер картин вы непременно должны часто ездить по миру...
– Я не как коллекционер вынужден ездить. Я, слава богу, вообще ничего и никогда не «вынужден». Но, естественно, имею возможность бывать в разных местах. Вопрос в том, что нахождение в дальних для меня точках мира – это просто утоление интереса: посмотреть, что и где есть на свете. Если появляется возможность, хожу в музеи, тем более если там проводятся аукционы. Но это не значит, что я могу отнести себя к сумасшедшим коллекционерам, для которых это основной бизнес. Коллекционер, для которого собирательство становится предметом жизни, должен быть человеком, который полностью отошёл от дел и только этим занимается, – тогда это уже профессиональный «товарищ».
Но и здесь, опять-таки, возникает точка несоответствия, потому что коллекционер не может быть продавцом. А, грубо говоря, антиквар не может быть владельцем антикварного салона. Если человек собирает антиквариат, он по-настоящему любит раритетные вещи. И привязан к ним. Бизнесмен же должен продавать всё, что ему предложат продать. Вопрос цены. Я, слава богу, имею возможность находиться в другой категории. Я не должен продавать то, что мне нравится. Поэтому такое коллекционирование – для себя – это больше, чем классический «аrt-banking», когда произведения искусства покупаются с целью реализации, и это другая эстетика. Это вообще другая история.
– Могу предположить, что вы для своих детей всё это собираете.
– Для детей, конечно же, в итоге так всё и получится. Если всё будет нормально, то с удовольствием им впоследствии передам свою коллекцию. Если жизнь в какой-то момент не заставит меня продать её.
– У вас сколько детей?
– Двое. Оба мальчики. Одному двадцать пять лет, второму – десять.
– Будут полностью с Россией жизнь связывать? Или всё-таки образование уже западное?
– Образование один уже получил, западное. Но работает в Москве. А второй учится в Англии, но думаю, что потом всё равно на родину вернётся.
– Ещё в девяностые годы ваша нынешняя сфера деятельности в России была практически невозможна. Это только сейчас, когда определённая стабилизация достигнута, можно и артбэнкингом заняться…
– Да, безусловно, абсолютно точно. Сейчас действительно люди начинают становиться более зажиточными, что ли. Надеюсь, что по-хорошему зажиточными. Будут всесторонне развиваться как личности. И это даёт им возможность смотреть далеко вокруг. В шестидесятые годы люди вешали на стены Хемингуэя – как непременный элемент читательской атрибутики. А сегодня уже есть возможность выбирать по себе. Это с точки зрения искусства. Что касается вложения денег и инвестирования – тоже тема, которая становится всё более важной. Ведь если появляются деньги, ими надо управлять. Потому что деньги – они ведь живые. И если к деньгам не относиться как к живым, они так и будут тихо уходить в никуда.
– Среди ваших хороших знакомых – известный всем Артемий Троицкий, с ним вы и к нам пожаловали. Может быть, и кого-то из других приятелей назовёте, кого вы давно и хорошо знаете, пусть они и из «параллельных миров».
– Один из моих ближайших друзей – Андрей Макаревич, с которым мы даже написали вместе книгу – «Занимательная наркология». Много у меня и других друзей из мира музыки. И вообще из художественной сферы. Просто потому что жизнь моя проходила в совершенно разных ипостасях.
– С психиатром Бильжо не знакомы?
– Знакомы с психиатром Бильжо, как же…
– Он ведь и художник знаменитый, «отец» знаменитого Петровича.
– Да, да, да. И ресторатор к тому же…
– О Макаревиче несколько несерьёзно спрошу. Он заканчивал всегда свой «Смак» традиционной смачной рюмочкой. Это всё весело так у него проходило. И не сказалось на нём никак? А то, понимаешь ли, наркология, хоть и «занимательная»…
– Нет, никак не сказалось.
– Не стал он ни злее, ни «тормознее»?
– Нет, всё это только способствовало укреплению пищеварения.
– И, наверное, ныряет он со своим аквалангом всё глубже и глубже?
– Да, это без преувеличения так. Мы как раз с ним вместе много ездили. И обныряли уже полмира. Поэтому, в общем, это у него нормально, для расслабления.
– Любимое море у вас есть? Может, Коралловое? Или всё-таки Красное? Тёплое и терпкое, как глинтвейн.
– Вы знаете, у нас с ним было любимое приключение, когда мы чуть не утонули в Мозамбикском проливе.
– Между Мадагаскаром и Африкой?
– Да, именно там. Имеется в том райончике остров, называется он Бастес-Динья. Возле него находится самая богатая коллекция затонувших галионов. (Парусных судов XVII-XVIII веков. – Прим. И.Р.) И нам это всё очень запомнилось, потому что мы там, в открытой воде, встретили самую здоровенную акулу, которую только можно было себе представить. Большая чёрная акула Замбези! Было очень неприятно, просто жутко. Очень нам с Андреем запомнилось то место. И вообще приключение было для меня незабываемым, по крайней мере, одним из самых ярких в жизни.
– А помимо морских путешествий, нечто экстремальное можете припомнить? Восхождение на Джомолунгму, к примеру.
– Экстремизма такого масштаба в моей биографии пока нет. Горы для меня – это прежде всего горные лыжи.
– Куршевель?
– Да. Пусть кому-то это и покажется банальностью. В последнее время у нас, когда говорят «Куршевель», то многими это воспринимается как некий абсолютный гламур. Но в основном людьми, которые там не были никогда. Я объехал на лыжах всю Европу. Могу об этом сказать без стеснения, поскольку здесь нет преувеличения. И гораздо меньше был я в Америке. Просто далеко лететь. Так вот, лучше Куршевеля с точки зрения гор и возможностей катания безостановочно места нет. К тому же есть такой немаловажный момент, как «скиинг-скиаут»: надел ботинки – покатился – приехал – снял ботинки – вошёл в гостиницу. Это очень удобно и приятно. И просто красиво. Поэтому есть вещи, которые воспринимаются весьма условно, на уровне каких-то вторичных рассказов. По мне так, если и есть абсолютный гламур, так это Сент-Мориц и Гштадт. Там действительно чистый гламур, где лишь бы потусоваться в толпе и показать себя.
– Да, пресыщенной Москве все эти тщеславные феньки крайне важными представляются. А не кажется ли вам, что пропасть между богатыми и бедными россиянами, равно как между Москвой и регионами, не то что не сокращается, но в обозримом будущем ещё и расти будет?
– Вы знаете, я не могу согласиться с такой постановкой до конца, хотя бы потому, что бывают странные вещи. Я знаю массу людей, которые формально – из регионов, а на самом деле их жизнь ничем не отличается от жизни людей, живущих в Москве. И более того, у них она даже более интересна и содержательна. Многие даже не подозревают, что современная Москва превратилась в одну огромную пробку – с невозможностью перемещения по ней. Если отталкиваться от предположения, что человек, живущий в Москве, имеет возможность ходить на какие-то эксклюзивные выставки или в театры, то я думаю, что средний москвич посещает театры или музеи не чаще среднего жителя провинции. Это как жители морских побережий, которые имеют банальное для них «счастье» быть прописанными у самого пляжа, но на самом деле очень редко ходят на море. Это где-то рядом, это всегда есть – и воспринимается на уровне подкорки как нечто легко достижимое. Но это никогда не достигается. Такая странная воображаемая линия горизонта.
Что касается денег, которыми располагает провинция, опять-таки, есть у нас какие-то совершенно уникальные регионы – газоносные, нефтеносные, металлургические, которые дают людям много возможностей достичь весьма высокого уровня жизни. Да, безусловно, между столицей и периферией существуют различия, потому что во всех странах мира формируются финансовые центры, куда стягивается весь капитал страны. Естественно, там другие возможности. Этого нельзя отрицать. Но нельзя отрицать и то, что жизнь провинции имеет свои преимущества по более низкому уровню стресса, который получает житель большого города. И по уровню всех возможных рисков, которые он преодолевает практически ежедневно. Тут кому как. Кто что любит. Например, знаете, у меня есть очень чёткое понимание психологии людей, которым безумно нравится Нью-Йорк. Люди эти очень любят Нью-Йорк, нравится им Нью-Йорк безумно! А кому-то этот пресловутый Нью-Йорк поперёк горла встаёт – и им невыносимо там находиться. «Город жёлтого дьявола», с жуткими запахами и чудовищными пороками. Всё индивидуально. Как ни парадоксально, больше нравится тот же Нью-Йорк людям, которые приехали из маленьких городков и которым не хватает этой вот своеобразной жизненной вибрации. А люди, которые живут при избытке такой жизненной вибрации и как бы включены в розетку, для них, наоборот, расслабление, приезд в какое-то пространство с менее интенсивным ритмом жизни гораздо приятнее и даёт редкую возможность побыть самим собой.
– Вы стремитесь соприкасаться с прекрасными сферами искусства. Но всё-таки вряд ли будете отрицать, что мир противоречив и несправедлив по сути своей. Помимо этих несчастных московских пробок назовёте ли мне здесь и сейчас хотя бы несколько тенденций, которые вызывают у вас определённую озабоченность?
– Вы знаете, я вообще считаю, что мир объективно развивается, независимо от наших предпочтений и локальных протестов. Я не могу назвать какую-то одну эмоцию, которая способна охарактеризовать моё отношение к миру, потому что, повторюсь, он развивается помимо нашей воли. Мы должны воспринимать его таким, какой он есть. В то же самое время я очень интересуюсь историей религии. И для меня очень непонятна причина высокого уровня накапливаемого в мире взаимного ожесточения. Вот это, наверное, самое неприятное.
– Религия и жестокость – это ведь не противоречие. Религия всегда жестока была, как бы она себя ни ретушировала.
– Религия не должна была бы быть жестокой. Религия по сути своей – духовная составляющая жизни человека и призвана поднять уровень терпимости. Понять другого, не быть агрессивным. А в реальности действительно зачастую происходит обратное. Вот это, конечно, обидно.
– Видимо, примерно то же самое можно сказать и о практическом крахе социализма-коммунизма. Не должно было быть столь ужасающего итога. Ни культа личности, ни массового истребления людей в СССР можно было бы не допустить.
– И дикое истребление народа, и все-все формы брутальных этих «измов» – они всегда плохи. Всевозможный радикализм – это всё, возвращаясь к психиатрии, есть категорическое обрубание любой возможности понять другого. Но, вместе с тем, мы же не можем отрицать, что, скажем, в обществе, в котором нам с вами довелось прожить значительную часть жизни, было и очень много хорошего – того, чего сейчас порой так не хватает. Я вообще считаю, что мне повезло, потому что я прожил достаточно яркую и интересную жизнь в условиях социализма. И я всерьёз убеждён, что жить мне, молодому человеку, при социализме было гораздо интереснее. Я не знаю всех составляющих этой моей убеждённости, но я так вижу и чувствую. Да, сейчас гораздо больше возможностей. Но в те годы люди сильнее дружили, потому что дружили. Больше любили, потому что просто любили. Это не было наслоено на мощнейший взаимный финансовый интерес, а опиралось на категорию выживаемости, которая основана на совершенно других понятиях. Как ни странно, отсутствие перспектив и практических возможностей рождало гораздо больше духовной глубины. Наше современное российское общество ещё не выработало новый стандарт. А тогда он был. Причём он был независимо от того, что да – была официальная социалистическая идеология; да – была мораль, которая являлась абсолютно ущербной, но тем не менее… Товарищи, мои друзья, моя семья – это была какая-то внутренняя миграция, когда люди общались, и был очень интересный культурный пласт, в котором люди жили абсолютно вне этой системы. Все читали иностранную литературу, причём читали гораздо больше, чем читают сейчас. Всё это было по-другому. Жили какими-то абсолютными иллюзиями относительно западного мира, который идеализировался и казался каким-то совершенно невозможно идеальным. Сейчас же другой стандарт ещё не выработался. Но он придёт, просто должен найти своё время.
– В КПСС (Коммунистическую Партию Советского Союза) вы вступали?
– Нет.
– А вы «с какого года»?
– С 1958-го.
– И не вступали сознательно, хотя, в общем-то, вам рекомендовали и уверяли, что иначе можно мимо карьеры пролететь?
– Да, в общем-то. Но я являлся научным работником, это была ниша, в которой все были свои, поэтому «проскочил», что называется.
– Из зарубежных стран чей-то уклад вам симпатичен? Спокойный швейцарский или всё-таки более бурный… шотландский?
– Шотландский бурным не назовёшь. Шотландский бурный только после большого количества виски. А так… трудно сказать. Если долго находишься даже в Лондоне, то начинает слегка угнетать спокойствие той жизни. Причём жизнь молодая там достаточно активная, но всё равно она не столь интересна, как могла бы при тех же условиях протекать в России. Мы привыкли к иным скоростям, к иной насыщенности. В России другая динамика перемещений, иная последовательность событий, скомпрессованность времени, чувство того, что происходящее находится у тебя на острие ощущений. В устоявшейся западной жизни подобного чувства нет. Ты являешься там, скорее, пользователем, чем творцом событий. Мне повезло, что, начиная с восьмидесятых, я был в гражданской дипломатии. Мы первыми работали с американцами. Потом происходило множество событий, связанных с перестройкой, с Ельциным, с первыми кооперативами. Ты чувствуешь причастность к этому времени. И многих людей, которые сейчас находятся на высоте положения, я помню в самом начале их карьеры, мы дружили – и это интересно. Замечательно ощущать себя причастным к динамике истории.
– Наверное, несмотря на все противоречия и минусы, Ельцин сыграл всё-таки позитивную роль в истории России?
– Безусловно. Это была колоссальная по значимости роль. А потом он очень вовремя ушёл. Вы знаете, вот китайцы очень точно определили, назвав себя «Поднебесной». Они говорят: «Власть от небес». Стране как бы суждена эта власть сверху, получается такое своеобразное помазание. Да, в этом что-то есть. Должен согласиться с вами, потому что есть какая-то «помазанность» и в Ельцине, которая была в нём, несмотря на все его очевидные негативные поведенческие и личностные черты. Как раз на тот момент России, чтобы пройти без крови невероятный период ломки, нужен был именно такой человек.
Сейчас можно долго говорить о том, что, наверное, китайская модель была бы для нас более приемлемой. Но мы забываем, что Китай как раз и воспринимает власть как данную небесами. Китай живёт конфуцианскими принципами, при которых нет противления власти. И Китай живёт принципами отсутствия социальных поддержек. В Китае нет пенсий, в Китае нет больничных пособий. Об этом наши люди напрочь забывают, когда начинают восхвалять китайскую модель. И забывают, что в Китае почти полмиллиарда человек, живущих практически на нищенскую зарплату. Особенно это касается сельских районов. А вообще, собственно говоря, это бесконечный ресурс дешёвой рабочей силы, который позволяет Китаю быть тем Китаем, который мы знаем.
Ельцин обеспечил проход к прогрессу в российском варианте. История не знает сослагательных наклонений. Мы ушли из коммунистического прошлого с невероятными ошибками, прошли через жуткую, брутальную волну преступности девяностых, через несправедливую приватизацию. Но, с другой стороны, по-прежнему не снят вопрос: «Какие альтернативы могли быть?» Раздать всем всё и попробовать управлять теми же предприятиями? Сейчас все забывают о том, что тот же «Норильский никель» – я очень хорошо это помню – в девяностые годы имел просто невероятный объём долгов, неподъёмный. Непонятно было, что вообще с этим делать. Как это всё надлежит собрать, как выплачивать зарплату? Задолженность по зарплатам, по пенсиям – это были насущные и сложнейшие проблемы. Мы теперь и не вспоминаем о них. И с высоты наших сытых двухтысячных уже кажется, что можно было всё делать более «разумно»...
– Что вы можете сказать о нашем губернаторе Александре Хлопонине?
– Я с ним знаком очень давно. И считаю, что он исключительно достойный человек. Я его наблюдал в разных ситуациях. И когда он был ещё директором «Норильского никеля», и когда стал таймырским губернатором. Так вот, мне кажется, он прошёл очень большой путь трансформации сознания. Могу с уверенностью сказать: он очень болеет за своё дело. Я знаю многих российских губернаторов. И небезосновательно считаю, что из Александра Хлопонина получился очень хороший политик.
Когда мы говорим о власти, все мы рассуждаем обычно именно как пользователи власти. Я себя отношу к этой же категории – пользователей. В России всегда есть некая социальная модель отношений – власти и обывателя, простого гражданина, который не причастен к принятию решений, к властным полномочиям. Мы воспринимаем очень субъективно, со стороны, деятельность только той политической персоны, которую видим непосредственно. И зачастую не понимаем, как огромно многообразие тех задач, которые необходимо решать любому властному персонажу. Тем более – такого крупного масштаба, как губернатор. Так что залихватская фраза «Вот если бы я на его месте был» не работает. И вообще не дружит со здравым смыслом.
– Ещё один вопрос к коллекционеру живописи: кто сейчас в мире художник номер один?
– В мире есть объективность. Если критерием считать финансовый успех, то доминируют два самых дорогих художника. Это Дамиен Хёрст и Джефф Кунц. И есть ещё Люсьен Фрейд, это внук Зигмунда Фрейда, того самого…
– Как психиатр вы изучали один фрейдизм – сексопсихологический. А теперь, получается, открыли и фрейдизм в живописи.
– Это вы верно заметили. Неисповедимы пути…
– Согласитесь, что всё-таки учение Зигмунда Фрейда оказалось жизнеспособнее, чем учение Карла Маркса? Я имею в виду лишь их основные идеи. Сексуальное поведение действительно определяет характеристику личности. А вот теория о прибавочной стоимости в завязке с мировой революцией на практике так и осталась теорией.
– Наверное, правда лежит где-то посередине, как всегда. И был ещё Эрих Фромм, который попытался что-то из всего этого объединить. И было много попыток всё это проанализировать, разложить по полочкам. Но, безусловно, человеческая личность не может быть столь иррациональной, как она описана у Кампанеллы. А, в общем, модель Маркса всё-таки исходит, наверное, из идеалистического понимания. И модель коммунизма, которая была им заложена, не учитывала множества субъективных человеческих факторов. Даже того, что у всех есть родственники – родители, жёны, дети. Во имя абстрактной идеи не каждый готов умереть на баррикадах. И это, думаю, нормально с точки зрения живого человека.
– Вы очень логично связываете цепочки рассуждений. Интересно, а как вы охарактеризуете чудеса, сотворённые нашими футболистами? И сборная на Евро, и «Зенит» в Кубке УЕФА – казалось бы, «сказки венского леса»…
– Нет, в отношении «Зенита», конечно, можно много реальных предпосылок успеха в пример привести. Но лучше, наверно, просто порадоваться. В общем, питерцы хорошо играли. Даже превосходно. Так разгромить «Баварию»! А по поводу того, что будет с нашей сборной в Австрии и Швейцарии, как говорится, все мы надеялись на выход из группы, а уж дальше – как повезёт… Надеялись в основном, что та фортуна, которая сопутствовала сборной России на предварительном этапе, от неё не отвернётся. Может быть, повезёт даже больше – так предполагали оптимисты. И всё чудесным образом сбылось! Хотя, скажем честно, накануне чемпионата никакого эстетического удовольствия игра нашей сборной не доставляла. Я имел несчастье присутствовать на очень важном матче в Израиле, который был, казалось, решающим для нас. Так вот, когда смотришь футбол по телевизору, сам телевизор добавляет динамики. Потому что камера ходит, мяч перемещается туда-сюда – и это уже что-то. Но смотреть тот матч на стадионе было просто невыносимо и даже больно. Это было настоящее мучение. Хотелось крикнуть: «Мужики, есть кто-нибудь на трибунах, кто может побегать часа полтора?» Так было бы намного лучше, потому что это был позор, это был кошмар! И это было стыдно… Но потом – звёзды на небе повернулись, что ли? И засияли наши звёздочки в Европе. Произошло действительно настоящее чудо. |