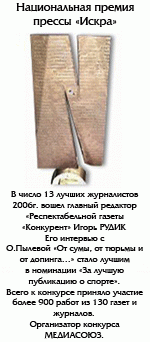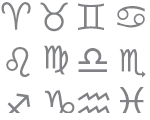«Конкурент» беседует с известным австрийским дирижером, художественным руководителем Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии. В феврале этого года в Красноярском театре оперы и балеты стартовал новый проект «Парад звёзд в Оперном». В рамках этого проекта и прилетел в Красноярск известный дирижёр Илмар Лапиньш. В нашем оперном он дирижировал на двух спектаклях – «Евгений Онегин» Чайковского и «Царская невеста» Римского-Корсакова. Илмар Артурович, без преувеличений, прославленный музыкант с мировым именем. «Человек мира» – это определение, пожалуй, как нельзя лучше подходит этому высокому, статному европейцу. Заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Австрии, латыш по национальности, русский в душе. Маэстро работал с 140 оркестрами Азии и Европы и восемь лет руководил коллективом в Австрии. Ему рукоплескали театральные ложи в Берлине и Праге, Латвии, Китае и, разумеется, России. Сейчас Илмар Лапиньш – главный дирижёр и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра в Иркутске. В Красноярске с «властелином музыки» мы беседовали в промежутках между репетициями к «Онегину». Маэстро был уставшим после многочисленных прогонов и предельно откровенным. – Насколько я знаю, вы заканчивали тогда ещё Ленинградскую консерваторию, и заканчивали её по классу альта. Сейчас – в руках дирижерская палочка. Так сказать, не по специальности работаете. Илмар Артурович, откуда появилось такое решение стать дирижером?
– Знаете, вообще-то дирижер должен был на чем-то играть, была такая установка в то время, когда я учился. И принимали на дирижерский факультет лишь после того, как у тебя за плечами уже было одно музыкальное образование. Это было почти неписаным законом. Сейчас стало не так жестко с этим делом, но тогда было вот так. Я закончил десятилетку как альтист, потом поехал в Ленинградскую консерваторию, учился, закончил её. Я считаю, что это естественно. Альт, например, я никогда не бросал, ещё и сейчас играю. Преподавал довольно много альтистам, мне это никак не мешало. Помогало только.
– Очевидно, дирижерское ремесло предполагает много этапов: от рождения непосредственно музыкального замысла до кульминации, самого концерта, спектакля. В промежутках – вероятно, изнурительные репетиции, прогоны. Вопрос в следующем: какой из этапов вам наиболее интересен? И вообще, вам важен результат или сам процесс творчества?
– Нет, мне однозначно важен результат. Даже не результат, а я скажу, что мне важно, какое впечатление это оставит на слушателя. Это для меня и есть результат моего творчества. Не то, как артисты сыграли, а как, а что унесли зрители домой после этого. Ну вот то же самое, как когда вы пишете: у вас ведь, Майя, тоже есть результат и есть сам процесс написания статьи, допустим. А ведь вам, в конечном счете, самое важное во всём этом – то, что скажут ваши читатели, разве не так?
– В какой-то степени – разумеется. Такой вопрос: насколько восприятие классики, русской классики различно в разных странах? Ваша оценка разного зрителя, разного слушателя. Вы ведь компетентны рефлексировать на эту тему – играли со многими оркестрами мира.
– Я вам отвечу немного по-другому… (Задумывается.) Вот вы идёте, скажем, кушать бефстроганов. Одно дело, когда вы это кушаете, допустим, в школьной столовой. Совсем другое дело – когда вы едите такое мясо, например, в железнодорожной забегаловке. Третье – когда вы кушаете бефстроганов в ресторане, и совсем иное – в каком-нибудь люксовом ресторане. Есть разница, так ведь?
– Само собой.
– Точно так же, когда, например, интервью напишет новичок-студент и какой-то мэтр. Есть отличия, разумеется. То же самое есть и в музыке. Вообще, потом расскажу вам, почему всё время сравниваю журналистику и музыку... Журналист и дирижер – это проводники идеи до потребителя. И чем каждый из этих двух людей более профессионален, тем лучшего качества получит «товар» потребитель – зритель, читатель, слушатель. Понимаете, самое важное ведь, чтобы вот это промежуточное звено, этот проводник правильно понял и передал. Тогда будет нужный эффект понимания и принятия тем, кому это творчество адресовано.
– Где-то читала, что есть разная манера дирижирования. Как разная манера, к примеру, управления автомобилем. И, мол, зависит манера эта во многом от эмоциональной организации самого дирижера, от каких-то личных качеств. Насколько вы демократичный дирижер? Или же вы – импульсивный руководитель? Дирижер Тосканини, говорят, во время каждой репетиции в сердцах разбивал часы…
– Я, знаете, демократично-импульсивный дирижер, скорее. Я бы так сказал. Я считаю, что со всеми, кто играет в оркестре, мы делаем одно общее дело. Я очень часто даю музыкантам завершить какую-то музыкальную фразу самим, жду, как они это сделают. Как правило, делают это они очень хорошо, потому что если ты человеку доверяешься – он тебе отвечает всем сердцем. И он будет делать всё, чтобы было как надо. Я вообще отвечаю на ваши вопросы или так? (Смеётся.)
– Кто-то из исследователей говорил, что любой музыкальный коллектив, любой оркестр должен иметь «свое лицо». В связи с этим интересно ваше мнение: лица каких оркестров, коллективов, бэндов запомнились ярче всего? И тут же вопрос – какое лицо у Иркутского симфонического оркестра, которым вы руководите?
– Я дирижировал в своей жизни более чем ста сорока оркестрами и коллективами. И оперным театром в том числе. Если будет совсем интересно – где-то на флэшке у меня есть весь список, всех коллективов. Так вот. Из всех оркестров, думаю, запоминающееся лицо было, во-первых, у Ленинградской филармонии во время Муравьинского. Плюс оркестр Венской Юнайтед Филармонии, это было в 90-х годах, существовала она под эгидой Объединенных наций, и там играли музыканты из лучших оркестров. У меня был один концерт там. После этого концерта, кстати, я получил почетное гражданство Австрии. Еще один запоминающийся оркестр, который я возглавлял полгода, это оркестр Свердловской филармонии. Я четыре сезона работал в Большом театре – великолепный оркестр! Знаете, если покопаться, в любом коллективе можно найти что-то хорошее.
Иркутский оркестр… Прошло полгода нашей совместной работы, я каждый день репетировал с музыкантами. Дело в том, что когда ты начинаешь работать с коллективом, ты должен стать похожим на них, они – на тебя. Тогда лишь будет гармония, синтез, тогда будет и результат. Я думаю, что за эти полгода мы сделали очень немало, и… я где-то даже очень горжусь Иркутским оркестром. Такова моя оценка. Вот сейчас я сюда приехал на гастроли, в Красноярск, здесь мне очень хорошо, но хочу туда, домой в Иркутск. Это абсолютно не в обиду местному оркестру. Ваш оперный оркестр – он другой. Половина состава уехала в Англию. Красноярский оркестр существует, не живёт. Этот оркестр не монолитный, это не однородное тело, хотя здесь есть очень много хороших музыкантов.
– Вы сказали, что «домой» – это в Иркутск…
– Да, однозначно. Я всю жизнь работал и жил в России. Я ощущаю себя частицей русской культуры, честно. А то, что я восемь лет жил в Вене, сколько-то в Литве, – это ничего не значит, потому что я всё время был связан с Россией, с Москвой. В России я чувствую себя дома. А там неважно – Москва, Петербург, Екатеринбург. Сейчас вот – Иркутск.
– Однако, наверное, корни дают о себе знать? Ощутить, как «свеж воздух на Рижском взморье», не хочется?
– Нет… (Задумывается.) Понимаете, это очень тяжелый вопрос. Я очень люблю свою малую родину. Однако то, что сейчас там творится… Мне очень стыдно смотреть людям в глаза. И самое страшное – осознавать, что я ничего не могу сделать для того, чтобы так не было. Не мне вам говорить, вы прекрасно всё знаете. (Задумывается.) Я был на Новый год в Риге. Гостил там три-четыре дня, а потом приехал – и была депрессия десять дней. Ну, потому что Латвия больна. Они все там ментально больны. Измучены своим ужасно вороватым правительством. Там очень неприятно…
– Спасибо за такой искренний ответ.
– Майя, вы можете это писать всё, без проблем! Я плохого ничего не говорю. Я говорю об очевидных вещах. Латвия больна, и необходимо долгое время, чтобы она выздоровела.
– Но в исцеление всё же верите?
– Знаете, я одно могу сказать: я всю жизнь знал, что Латвия должна быть вместе с Россией. Нет другого пути, нет. Я помню, что мне отец в своё время говорил: «Латвия может быть только или с немцами, или с русскими. Но немец тебя за человека никогда считать не будет. А с русским ты всегда договоришься». Нас многое объединяет… Сейчас молодёжь в Латвии не знает русский язык, вы в курсе этого? Мои дети все знают русский, сын и старшая дочка.
– Наверное, стоит болезненную тему поменять. Раз уж упомянули сына и дочь, не могу не спросить: дети пошли по стопам отца?
– Нет. Моя старшая дочь – жена богатого человека, они живут в Мексике. А сыну 20 лет, он студент-экономист, что-то вроде «философии маркетинга». Учится и живёт в Вене.
– Ваша оценка: насколько сейчас востребован в России театр в принципе? Насколько жив интерес публики к классике?
– Я иногда себя ощущаю динозавром с чешуйчатым хвостом, будто я – из прошлого века... Моё ощущение, что театр – это музей. Не надо изобретать ничего нового, чтобы привлечь к себе внимание людей. Нужно просто грамотно и хорошо делать так, как принято. Знаете, сейчас много режиссеров откровенно сходят с ума в погоне за зрителем. Недавно по российскому телевидению транслировали швейцарский спектакль «Евгений Онегин», где Ленский и Онегин – геи. И Ленский неровно дышит к Евгению. Всё перевернуто вверх дном! И у девушек Лариных тоже другая ориентация. Как говорится, без комментариев. Считаю это глумлением и над Пушкиным, и над Чайковским тоже. Хотя вы ведь знаете, что у Чайковского тоже были какие-то другие наклонности в этом плане. Но это не умаляет его таланта: ни у одного композитора в мире нет такой красивой любовной лирики, как у Чайковского.
– Сейчас с какой-то маниакальной настойчивостью стараются внедрить в театр новые технологии. Ну, например, онлайн-трансляцию спектаклей, новые, зачастую с нелепыми отклонениями, интерпретации известных сюжетов. Как вы к этому относитесь?
– Я считаю, что пусть театр, музыка классическая останутся элитарным искусством. Понимаете, какие-то современности, конечно, должны быть. И в симфоническом оркестре нельзя, например, работать, как вчера. Если ты не меняешься – ты идёшь назад. Но всему есть мера.
– Продолжите известное клишированное высказывание: «Важнейшим из искусств для нас является…»
– Уж точно не кино! Для меня – музыка, естественно. Это моя стихия, это моя работа, это моё хобби, это моя жизнь. Как хотите. Я живу в музыке. Музыка – это большой аквариум, и я в нём плаваю, мне хорошо.
– Не знаю, быть может, вы назовёте, да и многие называют это своеобразным «провинциальным комплексом», но из песни слов не выкинешь – привыкли сравнивать столицу и периферию. Вы работали во многих мировых столичных оркестрах, не только в Москве, сейчас – в Сибири. Принципиальная разница есть в уровне развития?
– Действительно, я работал в оперных театрах, например, в Вене, в Берлине, в Праге. Много столиц, правда. Я думаю, что это абсолютно неважно. Важно, что ты несёшь слушателю. А он везде одинаковый. Не бывает публики-дуры: публика везде всё понимает. И для меня, например, самое дорогое, когда человек впервые пришёл на оперу, и происходит маленькое открытие, мини-исповедь – и он уходит, чтобы вернуться снова. Я знаю, для чего меня создал Бог… Для тех, которые приходят. Для тех, кто работает со мной.
– Гилберту Честертону принадлежат слова, что музыка во время обеда – это оскорбление и для музыканта, и для повара. Но в наше время запросто можно встретить людей с классическим музыкальным образованием, играющих в ресторанах, джаз-кафе. Как вы к этому относитесь?
– Это не предательство искусства, если вы об этом. Гайдн, великий композитор, работал у князя, у которого был оркестр. И каждое воскресенье должна была быть или новая симфония, или новые этюды. И пока князь с гостями делали «ням-ням», Гайдн и его коллектив играли в углу. Так было. И сегодня ничего не изменилось. Я сам играл в Вене в ресторанах во время ужина. Нужно было играть три часа, не вставая, без пауз. За это тебе дают где-то сто – сто пятьдесят долларов и после выступления ещё кормят большим бифштексом и напитком на твой выбор. Есть вещи, которые жизнь сама диктует, которые надо принять.
– Как любите отдыхать?
– Первое условие для отдыха – это тишина. (Улыбается.) Никакой музыки. Я, например, терпеть не могу кафе, где играют что-то. Я читаю. В гостинице вот, к примеру, лежат романы Агаты Кристи. Что ещё? У меня есть хобби – языки. Я болтаю на нескольких. Работал в Югославии, знаю сербский. Немецкий я знаю, поскольку я гражданин Австрии сегодня. Свой родной язык, естественно. Когда-то польский знал хорошо. Еще три года довелось работать в Татарстане, говорю на татарском очень прилично. В Турции, кстати, могу на базе татарского языка изъясниться. Но это не надо писать, наверное. А то подумают, что хвост распушил, как павлин.
– Бессмысленно спрашивать у вас про то, где за границей были. Понятно, что география путешествий более чем обширна. Спрошу, где хотелось бы побывать.
– Отвечу, где не хотелось бы. В Америке! Не знаю, почему. А вообще я очень люблю Китай, был там трижды. Это, пожалуй, завтрашний день планеты. Очень люблю Камчатку, я там каждый год бываю. Я там работал одно время. Конечно, там великолепная природа. И люди. И в Сибири замечательные люди. Да вообще везде очень хорошие люди, просто надо знать, с кем общаться.
– А в Иркутске или, может быть, Красноярске есть любимые места?
– Дом – работа, дом – работа… Хотя у меня есть развлечение: в каждом городе я ищу магазин, где продаются всякие элитарные продовольственные продукты и который работает целую ночь. Я тогда вечером, страшно уставший, еду туда, хожу-хожу, смотрю, как будто буду всё это покупать. Потом приобретаю бутылку какого-нибудь элитного пива и еду домой. Вот такой своеобразный релакс. Это было и в Литве, и в Вене, и в России тоже. Это почти шопинг-терапия. Даже, скорее, «looking-терапия» (to look – «смотреть». – Прим. авт.).
– Любопытно. В таком случае вас смело можно называть гурманом?
– Ну да. Впрочем, я и сам очень неплохо готовлю.
– Опередили мой вопрос. Нравится кулинарничать? Какое ваше коронное блюдо?
– Очень нравится! А блюд несколько: узбекско-татарский плов, азербайджанский суп – пити, соте из баклажанов по-армянски. А вот ещё тут увидел ресторан «Балкан-гриль», напротив театра, там повара – сербы. В один из дней обязательно зайду туда поужинать. Пойдемте? Может быть, в моем списке коронных блюд скоро появится что-то из сербской кухни, кто знает.
– Напоследок вопрос такой, больше философский, наверное. О чём мечтает Илмар Лапиньш? С чем связывает свои личные и профессиональные планы и чаяния?
– Профессиональные – я бы хотел, чтобы мой оркестр стал не только гордостью Иркутска, но и гордостью России. У меня есть такой план: хочу, чтобы через три года об этом оркестре знали уже в Европе. Я могу его вывести не на такие халтурки, на какие сейчас соглашаются многие музыканты в Сибири, играть за копейки. А личные чаяния... Я живу очень хорошо. Я очень богатый человек. Душевно богатый. Вообще хочется, чтобы было нормальное здоровье, чтобы мог долго работать. А ещё… чтобы я был нужен. Если ты нужен – значит, всё в порядке. Человек становится больным, когда он не востребован. Пока – всё нормально. |